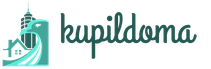Архимандрит евгений и иже с ним убиенные новомученики александро-свирские. Митрополит Нестор (Анисимов) Архимандрит евгений и иже с ним убиенные новомученики александро-свирские
Эта статья - воспоминание о друге, в миру Николае Савчуке, молодом священнике, иеромонахе, настоятеле храма, затерянного в самом центре России, в местах удивительной, нежной красоты, который был убит с неподдающейся описанию жестокостью при обстоятельствах, которые еще до конца не выяснены, и, вполне возможно, останутся таковыми навсегда. Его второе, монашеское имя - Нестор.
Я держу в руках его фотографию, которая снята на одном из хребтов Кавказа, на границе Краснодарского края, в осенний снегопад, когда мы, двигались в сторону Абхазии, где тогда шла война - непредсказуемая и абсолютно беспощадная.
Это была миротворческая поездка. Нет, не официальная дипломатическая, а просто личная миротворческая инициатива двух русских священников. Да, бывают и такие инициативы.
Представьте себе, что Вы собрались и поехали за свой счет и на свой страх и риск мирить чеченских боевиков и русских спецназовцев, или албанцев и сербов, или евреев и палестинцев, или осетин и грузин, или … или….
Вы скажете, что это наивно, и даже невозможно.
А Вы пытались?
А он пытался. Ему приходили в голову такие безумные с точки зрения большинства идеи…
УБИЙСТВО
Очень красивый, стоящий в глухом месте храм, грабили трижды - в нем сохранились древние иконы шестнадцатого и семнадцатого веков в хорошем состоянии. Трагедия же криминального наступления на храмы и иконы в 90-х нами даже приблизительно не осознана.
Ясно, что это было отражение подспудных, печальных процессов, примета времени. И, быть может, трагическая история гибели молодого человека, понятная и психологически узнаваемая, поможет преодолеть наше скорбное бесчувствие. Это очень важная тема... И все же рассказ не об этом.
Нет, это не печальная и не сентиментальная история. Это история воина, который просто защищал свой храм. Как никто другой он понимал, что к спасению ведет узкий путь, и уж точно прошел его до самого конца.
Я хорошо знал его и могу доказать, что Нестор был человеком отчаянной, мальчишеской смелости. Я видел его на абхазско-грузинской войне, у знаменитой грузинской школы у реки Гумисты, через которую тогда бил, не переставая, грузинский снайпер. Но узость, неповторимость его, Нестора, пути в том, что в своей русской деревне, во вполне конкретном бою, он, монах, не мог никому нанести вреда. Он не мог никого ударить.
После первого ограбления он унес самые заветные, ценные иконы себе в келью, отчетливо сознавая, что если раньше взламывали храм, то теперь придут к нему в дом. Так и случилось.
Он парился в бане, когда трое неизвестных появились в церковном дворе. К счастью, он увидел их первым, и успел закрыться в доме, попытался по рации вызвать милицию, но никто не ответил.
А те трое нашли бревно, с размаху высадили им оконную раму и уже лезли в дом, явно зная, что именно там Богородица и Спас, две самые древние иконы, за которыми они и пришли. В их понимании это тысяч сто долларов. (Это напомним себе происходит в беднейшем регионе и в тот момент российской истории, когда люди получают 10 долларов в месяц.)
Не представляя, как их остановить Нестор даже выстрелил поверх голов из ракетницы. Они, отскочили было, но потом полезли снова. Молодой батюшка не так давно (какие его годы) служил в десантной разведроте, но что он мог сделать? Не бить же железом по голове и не стрелять в лицо на поражение… Думаю, что его неминуемо убили бы тогда, но он высадил руками стекло в соседней комнате и выпрыгнул, как был в нижнем белье, сильно порезавшись, весь в крови.
Иконы исчезли.
Перевязав руки в ближайшем деревенском доме, переодевшись и притворяясь пьяным, Нестор тогда обошел окрестности и нашел-таки машину, которая ждала тех троих. Они, как потом выяснилось, прятались в лесу пережидая. Нестор даже умудрился записать номер машины. Чуть позже, уже вместе с деревенской милицией, он устроил засаду на дороге. Преступники прорвались со стрельбой. Через пару часов их все же поймали в другом месте. Но иконы они уже успели передать «заказчикам». Тех, кому они передали иконы, поймали тоже, но икон снова не было. Они ушли «по цепочке». Скорее всего, они сейчас в Европе, а может быть, в Америке.
Сам святейший патриарх Алексий пожаловал тогда Нестору крест за храбрость. Но храбрость бывает разная. В доме еще оставались не менее ценные иконы. Нестор каждый час ждал, что за ними придут. Эта мысль измотала его. Он был все же очень молод. Легче быть смелым в горячке боя, но к постоянной мысли о смертельной опасности привыкнуть трудно…
Он устал, и, наверное, стал совершать ошибки. Слово «грех» в переводе с греческого означает, ошибка, промах. А может, и не дело монаха проявлять храбрость при задержании бандитов. В таких ситуациях деревенскому оперу приходится привлекать на помощь кого придется, в том числе и местных крутых парней, переступивших внутри себя черту. А есть неписаное правило, по которому монаху нельзя подпускать в себе близко неверующего человека.
Никто не узнает, сколько он передумал тогда. Я далек от суеверного взгляда на обстоятельства его смерти. Но, тем не менее, Нестор был убит в тридцать три года и это произошло в пятницу. Незадолго до этого в доме собирались друзья Нестора, их было 13 и убийца был среди них…
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Обстоятельства сложились так, что, находясь на другом конце России, я успел все же приехать и снять людей, собравшихся на похороны. А во время той поездки на самую первую из новейших кавказских войн, абхазскую войну, я снимал его под обстрелом в Нижних Эшерах, и, самое главное, снял его проповедь перед грузинскими пленными из Мхидриони, которым, между нами говоря, многое можно было предъявить тогда.
Один из них показался Нестору раскаявшимся. Его дома ждала восьмидесятилетняя мать, и он боялся, что она умрет, не дождавшись. Нестор вдруг просто попросил абхазские власти отпустить его. Безумная идея. Я отчетливо понимал, что в ушах абхазов это, мягко говоря, бестактность. Это прозвучало в моих ушах тогда так наивно, почти глупо…
Но, к моему огромному удивлению, абхазы сделали это. Кто знает, может сейчас тот спасенный им грузин прочтет эти строки. Нестор ведь был очень простой, возможно, не такой уж образованный, но очень искренний человек. И действительно верующий. Это, пожалуй, был его главный талант. Простая искренность очень действовала на людей.
Тогда в лагере военнопленных в Абхазии, в Гудауте 1992 года он был взволнован, мы полчаса как вернулись с передовой, и говорил он очень хорошо. Он словно обращался к своему будущему убийце.
Когда спустя почти 16 лет в августе 2008 с обычным опозданием мы получили известие об атаке на Цхинвал, мы, не раздумывая, отправились снимать хронику. Я, помня тот опыт с Нестором, тоже пригласил с собой священника, отца Виктора. Это была долгая поездка. Вместе с российскими войсками мы всего 30 км не доехали до Тбилиси.
Паралелльно я послал вторую сьемочную группу в Сухуми в Команский монастырь в Кодорское ущелье… Было отчетливо ясно, что завершился некий цикл и война 1992 в Абхазии и события 08.08.08 это Одна война, одно событие , просто протяженностью в 15 лет. И быть может именно личность Нестора его трагичная судьба позволит нам это событие осмыслить.
Уже через месяц, два после августа тема Цхинвала, ясное дело, не интересовала первые полосы и прайм тайм, мир так устроен, но поняли ли мы спустя 4 года то, что произошло. Что это было!?. Смогли ли мы осмыслить произошедшее? Если нет, «если психоанализ нации отсутствует, то невроз континентальных размеров неизбежен и война лишь один из его симптомов, просто наиболее заметный и литературно описанный. Если нет, то мы обречены на бесконечное движение по кругу, раз за разом в чертог теней возвращаясь», - говорил философ Мираб Мамардашвили.
Чертог теней это вообще-то -- ад. Не хотелось бы туда возвращаться. И, стало быть, надо додумать до конца, чтобы цхинвальская и сухумская ситуация не повторилась.
Что это было!? Почему долгая и тягостная война в Ираке, почти ничего не изменила в мире, а 7 дней осетинской войны его просто перевернули, создали иную расстановку сил, проявили иную Россию.
В 1992 году мы снимали сюжет в Абхазии вместе с Нестором во время того самого первого грузинского вторжения, в самый разгар событий, когда линия фронта еще шла по Гумисте, а не по Риони. Все было неоднозначно, судьба Абхазии, висела на волоске. Нам кажется, что Абхазия 1992 и Осетия 2008 просто части, вехи одного итого же события, одной пьесы. Август в Цхинвале был ее финалом и сейчас самое время для эпилога. Поэтому короткие обращения к абхазским событиям, наверное, логичны.Тем более, как известно в том же августе прошлого года грузинские полководцы планировали и атаку и на Абхазию, но Цхинвал не сдался, принял удар на себя и до Сухуми, к счастью, дело не дошло.
Однако Абхазию 1992-93 года мы так и не осмыслили. В начале 90-х нам в России было не до этого. Те немногие, кто был там, кто начал понимать тайные пружины и природу событий, и даже предугадывал нынешнее злодеяние... так и не высказались, промолчали в эфире, оставили это при себе, как фигуру речи. Не сделали этого, хотя бы в память о погибших друзьях. Кто-то побоялся, а кто-то поленился опубликовать свои размышления. Они так и остались недописанной рукописью, недомонтированным фильмом. Но все произошло. И фигура речи через 16 лет воплотилась в жуткую бойню в Цхинвале.
ТРЕЩИНА
Главные события века обычно остаются незамеченными. Одно из них произошло за три дня, до вторжения в Абхазию 1992 года. Все грузинские священники одновременно ушли в отпуск и уехали. Если это бы сделал один иерей, это по-человечески понятно и простительно, человек слаб, не все рождаются героями. Но если все разом - это означает совсем иное. Значит, была команда свыше, которую они никак не могли не выполнить. К этим грузинским батюшкам никаких претензий. Но, событие это, какая печаль, все же произошло, и поскольку грузины впоследствии проиграли войну, они больше никогда не вернулись в свои храмы и к своей пастве. Причем паства эта была на 90% грузинской, (абхазы до той войны не очень посещали храмы, сейчас иное дело). И ее ожидали неисчислимые бедствия и почти полный исход. И некому было ни утешить их, ни даже отпеть. Я думаю, такого не было за всю историю Православной Церкви, по крайней мере за последнюю тысячу лет . И это, увы, наше общее поражение, это поражение всего православного мира, не грузинское только.
И несмотря на то, в те далекие дни, грузины без промедления быстро и энергично высадили десант с моря, ввели в бой более 150 единиц бронетехники (и это для крошечной Абхазии...). Несмотря на то что, мхидрионцы и национальные гвардейцы, (нормальные отчетливые бандиты из личных армий тогдашних грузинских министров Иосилиани и Кетовани, оба, кстати, воры в законе) получали непосредственно перед военными действиями госакты на землю, ту которую им надо было еще окупировать. Несмотря на то, что на захваченной территории они сразу стали выдавать грузинскому населению оружие, старательно провоцируя (какая подлость!) национальную резню и этнические чистки с обоих сторон, несмотря на все это, они никак не могли победить в Абхазии, потому, что не было правоты, потому что их пастыри за три дня до конца света ушли в отпуск.
Может быть поэтому и 15 лет спустя, так долго и последовательно готовясь, они не смогли победить и в Осетии. Они хотели быть империей на Кавказе, но видимо империи создаются иначе.
Этот летний отпуск священников в Абхазии 92 года -- трещина во вселенском православии. И с мрачным пугающим шорохом она разверзлась эта трещина и в нее вошли корабли НАТО и грузинские ракетные катера курсом на Новороссийск, солдаты -»зомби» с автоматическими винтовками М-16 на улицах трогательно маленького осетинского города неустрашимые и неубиваемые, пока не кончится химическая доблесть, действие психотропного укола... И неожиданный звонок мобильника в кармане убитого грузинского командос, осетинский ополченец берет его... в трубке женский голос откуда-нибудь из Зугдиди или Кабулети: «Мамука, это ты сынок?». « Нет, уважаемая, это не Мамука, он мертв». Господи какая боль! И женщины с детьми в тесном Цхинвальском подвале без воды, еды и света три дня и три ночи. И ходить надо в наскоро сделанный туалет и выйти на белый свет нельзя: тех, кто выходил ставили к стене и расстреливали вне зависимости от возраста и пола.
Как все оказывается висит на волоске, и как легко вернуться в дохристианское состояние. Каменный век, пещера из бетона, темень и нечистоты, голод, жажада и страх. Но есть мобильник, и он работает и можно позвонить другу в Россию или в Грузию. И мать может позвонить сыну на войну. На тот свет. Господи, спаси и сохрани!
Город разом опустился вниз на несколько метров над уровнем моря. «Эти грузины нас опустили... в подвалы». И еще многое вошло в ту трещину.
Но представьте себе, что именно в это самое время в этом самом главном месте, вроде бы совершенно случайно оказывается русский деревенский православный священник и он призывает людей не ожесточаться, не проклинать, оставаться людьми, оставаться в границах православного поведения. Крестит на войне, отпевает погибших, утешает матерей. Исповедует солдата, того, кто вчера в бою убил человека… Вроде бы делает самое простое, что должен делать обычный священник. Просто так сложилось, что он в отличие от тех клириков не ушел в отпуск, а наоборот отпросился у своего благочинного, в самом глухом районе самого нищего субъекта Российской федерации. Взял отпуск и поехал на войну.
Он, поверьте, точно был первым представителем России и Православия в ту минуту в тот день. Позже, через дни, месяцы, годы пришли другие. Но в тот момент он был один.
АМЕРИКАНСКИЙ СВЯТОЙ
Годы идут, в суете забывается многое, ясное дело чуть потускнела и память о друге, но не так давно несколько лет назад Нестор вернулся, и сам напомнил о себе. Причем «вернулся» очень кружным путем, из Америки, где издается журнал «Русский Паломник». Я с бесконечным удивлением увидел на обложке его лицо, оцифрованное с домашнего фильма, который я сделал для родных и друзей Нестора, сразу после смерти. В одной из американских православных церквей его причислили к лику святых. Мы поехали туда встретились с этими американскими православными богословами. И стало отчетливо видно, что его там, в Америке, действительно искренне воспринимают как святого, и еще видно с какой-то пугающей ясностью, как человек такой знакомый тебе вдруг становится иконой, образом.
Если Бог даст и я сделаю обо всем этом фильм, то это будет фильм о том, что означает слово «святой» и применимо ли оно к отцу Нестору… Я-то знаю, что человек он был молодой, горячий, в каком-то смысле очень страстный. А может и правда все это смыто кровью. Он ведь сказал мне когда-то, что Царство Небесное нельзя выиграть «по очкам», только «вчистую».
Но мне стала острее чувствоваться живая человеческая судьба, боль, жалость, бесстрашие, которое стоит за всеми остальными житиями русских святых и новомученников.
После смерти отца Нестора в приходе ничего не разрушилось. Его дьякон стал священником в одной деревне. Послушник и ученик - в другой. В приходе Нестора почитают, как мученика, а чистые сердца русских деревенских бабушек не обманешь. В этой истории нет никакой безысходности. Нестор отчетливо представлял свое будущее. Незадолго до смерти он выбрал себе место для могилы позади храма, сразу за алтарем. В его судьбе все на месте.
Эта статья - воспоминание о друге, в миру Николае Савчуке, молодом священнике, иеромонахе, настоятеле храма, затерянного в самом центре России, в местах удивительной, нежной красоты, который был убит с неподдающейся описанию жестокостью при обстоятельствах, которые еще до конца не выяснены, и, вполне возможно, останутся таковыми навсегда. Его второе, монашеское имя - Нестор.
Я держу в руках его фотографию, которая снята на одном из хребтов Кавказа, на границе Краснодарского края, в осенний снегопад, когда мы, двигались в сторону Абхазии, где тогда шла война - непредсказуемая и абсолютно беспощадная.
Это была миротворческая поездка. Нет, не официальная дипломатическая, а просто личная миротворческая инициатива двух русских священников. Да, бывают и такие инициативы.
Представьте себе, что Вы собрались и поехали за свой счет и на свой страх и риск мирить чеченских боевиков и русских спецназовцев, или албанцев и сербов, или евреев и палестинцев, или осетин и грузин, или … или….
Вы скажете, что это наивно, и даже невозможно.
А Вы пытались?
А он пытался. Ему приходили в голову такие безумные с точки зрения большинства идеи…
УБИЙСТВО
Очень красивый, стоящий в глухом месте храм, грабили трижды - в нем сохранились древние иконы шестнадцатого и семнадцатого веков в хорошем состоянии. Трагедия же криминального наступления на храмы и иконы в 90-х нами даже приблизительно не осознана.
Ясно, что это было отражение подспудных, печальных процессов, примета времени. И, быть может, трагическая история гибели молодого человека, понятная и психологически узнаваемая, поможет преодолеть наше скорбное бесчувствие. Это очень важная тема... И все же рассказ не об этом.
Нет, это не печальная и не сентиментальная история. Это история воина, который просто защищал свой храм. Как никто другой он понимал, что к спасению ведет узкий путь, и уж точно прошел его до самого конца.
Я хорошо знал его и могу доказать, что Нестор был человеком отчаянной, мальчишеской смелости. Я видел его на абхазско-грузинской войне, у знаменитой грузинской школы у реки Гумисты, через которую тогда бил, не переставая, грузинский снайпер. Но узость, неповторимость его, Нестора, пути в том, что в своей русской деревне, во вполне конкретном бою, он, монах, не мог никому нанести вреда. Он не мог никого ударить.
После первого ограбления он унес самые заветные, ценные иконы себе в келью, отчетливо сознавая, что если раньше взламывали храм, то теперь придут к нему в дом. Так и случилось.
Он парился в бане, когда трое неизвестных появились в церковном дворе. К счастью, он увидел их первым, и успел закрыться в доме, попытался по рации вызвать милицию, но никто не ответил.
А те трое нашли бревно, с размаху высадили им оконную раму и уже лезли в дом, явно зная, что именно там Богородица и Спас, две самые древние иконы, за которыми они и пришли. В их понимании это тысяч сто долларов. (Это напомним себе происходит в беднейшем регионе и в тот момент российской истории, когда люди получают 10 долларов в месяц.)
Не представляя, как их остановить Нестор даже выстрелил поверх голов из ракетницы. Они, отскочили было, но потом полезли снова. Молодой батюшка не так давно (какие его годы) служил в десантной разведроте, но что он мог сделать? Не бить же железом по голове и не стрелять в лицо на поражение… Думаю, что его неминуемо убили бы тогда, но он высадил руками стекло в соседней комнате и выпрыгнул, как был в нижнем белье, сильно порезавшись, весь в крови.
Иконы исчезли.
Перевязав руки в ближайшем деревенском доме, переодевшись и притворяясь пьяным, Нестор тогда обошел окрестности и нашел-таки машину, которая ждала тех троих. Они, как потом выяснилось, прятались в лесу пережидая. Нестор даже умудрился записать номер машины. Чуть позже, уже вместе с деревенской милицией, он устроил засаду на дороге. Преступники прорвались со стрельбой. Через пару часов их все же поймали в другом месте. Но иконы они уже успели передать «заказчикам». Тех, кому они передали иконы, поймали тоже, но икон снова не было. Они ушли «по цепочке». Скорее всего, они сейчас в Европе, а может быть, в Америке.
Сам святейший патриарх Алексий пожаловал тогда Нестору крест за храбрость. Но храбрость бывает разная. В доме еще оставались не менее ценные иконы. Нестор каждый час ждал, что за ними придут. Эта мысль измотала его. Он был все же очень молод. Легче быть смелым в горячке боя, но к постоянной мысли о смертельной опасности привыкнуть трудно…
Он устал, и, наверное, стал совершать ошибки. Слово «грех» в переводе с греческого означает, ошибка, промах. А может, и не дело монаха проявлять храбрость при задержании бандитов. В таких ситуациях деревенскому оперу приходится привлекать на помощь кого придется, в том числе и местных крутых парней, переступивших внутри себя черту. А есть неписаное правило, по которому монаху нельзя подпускать в себе близко неверующего человека.
Никто не узнает, сколько он передумал тогда. Я далек от суеверного взгляда на обстоятельства его смерти. Но, тем не менее, Нестор был убит в тридцать три года и это произошло в пятницу. Незадолго до этого в доме собирались друзья Нестора, их было 13 и убийца был среди них…
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Обстоятельства сложились так, что, находясь на другом конце России, я успел все же приехать и снять людей, собравшихся на похороны. А во время той поездки на самую первую из новейших кавказских войн, абхазскую войну, я снимал его под обстрелом в Нижних Эшерах, и, самое главное, снял его проповедь перед грузинскими пленными из Мхидриони, которым, между нами говоря, многое можно было предъявить тогда.
Один из них показался Нестору раскаявшимся. Его дома ждала восьмидесятилетняя мать, и он боялся, что она умрет, не дождавшись. Нестор вдруг просто попросил абхазские власти отпустить его. Безумная идея. Я отчетливо понимал, что в ушах абхазов это, мягко говоря, бестактность. Это прозвучало в моих ушах тогда так наивно, почти глупо…
Но, к моему огромному удивлению, абхазы сделали это. Кто знает, может сейчас тот спасенный им грузин прочтет эти строки. Нестор ведь был очень простой, возможно, не такой уж образованный, но очень искренний человек. И действительно верующий. Это, пожалуй, был его главный талант. Простая искренность очень действовала на людей.
Тогда в лагере военнопленных в Абхазии, в Гудауте 1992 года он был взволнован, мы полчаса как вернулись с передовой, и говорил он очень хорошо. Он словно обращался к своему будущему убийце.
Когда спустя почти 16 лет в августе 2008 с обычным опозданием мы получили известие об атаке на Цхинвал, мы, не раздумывая, отправились снимать хронику. Я, помня тот опыт с Нестором, тоже пригласил с собой священника, отца Виктора. Это была долгая поездка. Вместе с российскими войсками мы всего 30 км не доехали до Тбилиси.
Паралелльно я послал вторую сьемочную группу в Сухуми в Команский монастырь в Кодорское ущелье… Было отчетливо ясно, что завершился некий цикл и война 1992 в Абхазии и события 08.08.08 это Одна война, одно событие , просто протяженностью в 15 лет. И быть может именно личность Нестора его трагичная судьба позволит нам это событие осмыслить.
Уже через месяц, два после августа тема Цхинвала, ясное дело, не интересовала первые полосы и прайм тайм, мир так устроен, но поняли ли мы спустя 4 года то, что произошло. Что это было!?. Смогли ли мы осмыслить произошедшее? Если нет, «если психоанализ нации отсутствует, то невроз континентальных размеров неизбежен и война лишь один из его симптомов, просто наиболее заметный и литературно описанный. Если нет, то мы обречены на бесконечное движение по кругу, раз за разом в чертог теней возвращаясь», - говорил философ Мираб Мамардашвили.
Чертог теней это вообще-то -- ад. Не хотелось бы туда возвращаться. И, стало быть, надо додумать до конца, чтобы цхинвальская и сухумская ситуация не повторилась.
Что это было!? Почему долгая и тягостная война в Ираке, почти ничего не изменила в мире, а 7 дней осетинской войны его просто перевернули, создали иную расстановку сил, проявили иную Россию.
В 1992 году мы снимали сюжет в Абхазии вместе с Нестором во время того самого первого грузинского вторжения, в самый разгар событий, когда линия фронта еще шла по Гумисте, а не по Риони. Все было неоднозначно, судьба Абхазии, висела на волоске. Нам кажется, что Абхазия 1992 и Осетия 2008 просто части, вехи одного итого же события, одной пьесы. Август в Цхинвале был ее финалом и сейчас самое время для эпилога. Поэтому короткие обращения к абхазским событиям, наверное, логичны.Тем более, как известно в том же августе прошлого года грузинские полководцы планировали и атаку и на Абхазию, но Цхинвал не сдался, принял удар на себя и до Сухуми, к счастью, дело не дошло.
Однако Абхазию 1992-93 года мы так и не осмыслили. В начале 90-х нам в России было не до этого. Те немногие, кто был там, кто начал понимать тайные пружины и природу событий, и даже предугадывал нынешнее злодеяние... так и не высказались, промолчали в эфире, оставили это при себе, как фигуру речи. Не сделали этого, хотя бы в память о погибших друзьях. Кто-то побоялся, а кто-то поленился опубликовать свои размышления. Они так и остались недописанной рукописью, недомонтированным фильмом. Но все произошло. И фигура речи через 16 лет воплотилась в жуткую бойню в Цхинвале.
ТРЕЩИНА
Главные события века обычно остаются незамеченными. Одно из них произошло за три дня, до вторжения в Абхазию 1992 года. Все грузинские священники одновременно ушли в отпуск и уехали. Если это бы сделал один иерей, это по-человечески понятно и простительно, человек слаб, не все рождаются героями. Но если все разом - это означает совсем иное. Значит, была команда свыше, которую они никак не могли не выполнить. К этим грузинским батюшкам никаких претензий. Но, событие это, какая печаль, все же произошло, и поскольку грузины впоследствии проиграли войну, они больше никогда не вернулись в свои храмы и к своей пастве. Причем паства эта была на 90% грузинской, (абхазы до той войны не очень посещали храмы, сейчас иное дело). И ее ожидали неисчислимые бедствия и почти полный исход. И некому было ни утешить их, ни даже отпеть. Я думаю, такого не было за всю историю Православной Церкви, по крайней мере за последнюю тысячу лет . И это, увы, наше общее поражение, это поражение всего православного мира, не грузинское только.
И несмотря на то, в те далекие дни, грузины без промедления быстро и энергично высадили десант с моря, ввели в бой более 150 единиц бронетехники (и это для крошечной Абхазии...). Несмотря на то что, мхидрионцы и национальные гвардейцы, (нормальные отчетливые бандиты из личных армий тогдашних грузинских министров Иосилиани и Кетовани, оба, кстати, воры в законе) получали непосредственно перед военными действиями госакты на землю, ту которую им надо было еще окупировать. Несмотря на то, что на захваченной территории они сразу стали выдавать грузинскому населению оружие, старательно провоцируя (какая подлость!) национальную резню и этнические чистки с обоих сторон, несмотря на все это, они никак не могли победить в Абхазии, потому, что не было правоты, потому что их пастыри за три дня до конца света ушли в отпуск.
Может быть поэтому и 15 лет спустя, так долго и последовательно готовясь, они не смогли победить и в Осетии. Они хотели быть империей на Кавказе, но видимо империи создаются иначе.
Этот летний отпуск священников в Абхазии 92 года -- трещина во вселенском православии. И с мрачным пугающим шорохом она разверзлась эта трещина и в нее вошли корабли НАТО и грузинские ракетные катера курсом на Новороссийск, солдаты -»зомби» с автоматическими винтовками М-16 на улицах трогательно маленького осетинского города неустрашимые и неубиваемые, пока не кончится химическая доблесть, действие психотропного укола... И неожиданный звонок мобильника в кармане убитого грузинского командос, осетинский ополченец берет его... в трубке женский голос откуда-нибудь из Зугдиди или Кабулети: «Мамука, это ты сынок?». « Нет, уважаемая, это не Мамука, он мертв». Господи какая боль! И женщины с детьми в тесном Цхинвальском подвале без воды, еды и света три дня и три ночи. И ходить надо в наскоро сделанный туалет и выйти на белый свет нельзя: тех, кто выходил ставили к стене и расстреливали вне зависимости от возраста и пола.
Как все оказывается висит на волоске, и как легко вернуться в дохристианское состояние. Каменный век, пещера из бетона, темень и нечистоты, голод, жажада и страх. Но есть мобильник, и он работает и можно позвонить другу в Россию или в Грузию. И мать может позвонить сыну на войну. На тот свет. Господи, спаси и сохрани!
Город разом опустился вниз на несколько метров над уровнем моря. «Эти грузины нас опустили... в подвалы». И еще многое вошло в ту трещину.
Но представьте себе, что именно в это самое время в этом самом главном месте, вроде бы совершенно случайно оказывается русский деревенский православный священник и он призывает людей не ожесточаться, не проклинать, оставаться людьми, оставаться в границах православного поведения. Крестит на войне, отпевает погибших, утешает матерей. Исповедует солдата, того, кто вчера в бою убил человека… Вроде бы делает самое простое, что должен делать обычный священник. Просто так сложилось, что он в отличие от тех клириков не ушел в отпуск, а наоборот отпросился у своего благочинного, в самом глухом районе самого нищего субъекта Российской федерации. Взял отпуск и поехал на войну.
Он, поверьте, точно был первым представителем России и Православия в ту минуту в тот день. Позже, через дни, месяцы, годы пришли другие. Но в тот момент он был один.
АМЕРИКАНСКИЙ СВЯТОЙ
Годы идут, в суете забывается многое, ясное дело чуть потускнела и память о друге, но не так давно несколько лет назад Нестор вернулся, и сам напомнил о себе. Причем «вернулся» очень кружным путем, из Америки, где издается журнал «Русский Паломник». Я с бесконечным удивлением увидел на обложке его лицо, оцифрованное с домашнего фильма, который я сделал для родных и друзей Нестора, сразу после смерти. В одной из американских православных церквей его причислили к лику святых. Мы поехали туда встретились с этими американскими православными богословами. И стало отчетливо видно, что его там, в Америке, действительно искренне воспринимают как святого, и еще видно с какой-то пугающей ясностью, как человек такой знакомый тебе вдруг становится иконой, образом.
Если Бог даст и я сделаю обо всем этом фильм, то это будет фильм о том, что означает слово «святой» и применимо ли оно к отцу Нестору… Я-то знаю, что человек он был молодой, горячий, в каком-то смысле очень страстный. А может и правда все это смыто кровью. Он ведь сказал мне когда-то, что Царство Небесное нельзя выиграть «по очкам», только «вчистую».
Но мне стала острее чувствоваться живая человеческая судьба, боль, жалость, бесстрашие, которое стоит за всеми остальными житиями русских святых и новомученников.
После смерти отца Нестора в приходе ничего не разрушилось. Его дьякон стал священником в одной деревне. Послушник и ученик - в другой. В приходе Нестора почитают, как мученика, а чистые сердца русских деревенских бабушек не обманешь. В этой истории нет никакой безысходности. Нестор отчетливо представлял свое будущее. Незадолго до смерти он выбрал себе место для могилы позади храма, сразу за алтарем. В его судьбе все на месте.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Жарки, что в Юрьевецком районе Ивановской области, существует более 200 лет. Места эти считаются уже таежной зоной. В районе сегодняшних Жарков когда-то были прекрасные заливные луга. Было много деревень, которые исчезли на наших глазах: Гарь, Яблоново, Усово, Башарино...
Воскресенская церковь в селе Елнать на расстоянии 7 км была почитаемой. В ней в XVII веке несколько лет подвизался святой Симон блаженный, которого обнаружили неподалеку в лесах и привели в елнатскую церковь. Впоследствии из Елнати Симон блаженный ушел в Юрьевец, где многие были свидетелями его чудес (хождение по водам, тушение пожара) и где он отошел ко Господу после того, как был жестоко избит по приказанию местного воеводы, который потом сильно раскаялся и сам хоронил Симона блаженного. Мощи святого покоятся под спудом в церкви Вознесения г. Юрьевца. Память Симона блаженного - 23 мая.
В Жарках была явлена икона Казанской Божией Матери, которая по сей день находится в жарковской церкви. Во время сенокоса люди увидели в густой траве икону. Это была икона Казанской Божией Матери, довольно больших размеров. Икону взяли, чтобы отнести ее в каменниковскую церковь. Но когда стали подходить к речке, то несшие икону люди начали слепнуть. И люди поняли, что Пресвятая Богородица не хочет покидать этих мест. Тогда на жарковском холме построили часовню, в нее поместили икону и дали обет возвести на этом месте впоследствии храм.
Жарковский храм в отличие от многих, в том числе и елнатского, и каменниковского, чуркинского и дорковского, не был во время последних гонений разрушен или осквернен. Закрытым он оставался около двух лет, с 1939 по 1942 г., в нем хранили зерно. Приходили костяевские и махловские активисты, бабушки вспоминали некоего Швечикова, который звал идти в Жарки «поповский улей разорять». Активисты сняли колокола, сбросили их, но три небольших колокола все же уцелели.

Когда мы приехали в Жарки в 1990 г., то увидели, что на березе перед храмом висел один из уцелевших колоколов. Бабушка Катя всегда звонила в этот старый звучный колокол, когда провожали кого-то в последний путь. Иконы хранили по домам. Бабушки говорили, что это Казанская все «управила», не допустила погибели храма. Может быть, потому и явилась.
Как только храм закрыли, пошли три женщины ходоками к Калинину, «всероссийскому старосте», за храм хлопотать. Пешком пошли. Ведь поезда и теперь ходят только до Кинешмы, а от Жарков до Кинешмы 70 км, а до Москвы - еще 450. Пока ходили, и постановление вышло: храмы открывать, священников из ссылок возвращать. Мало уже оставалось и храмов, и священников. А бабушки, тогда еще не вдовые и не такие старенькие, молились: «Казанская, не отступи!»

Когда храм открыли, иконы вернули и еще свои принесли. Ведь по-всякому бывало. Нашли икону, которую кто-то вместо двери к курятнику прибил. Чудным образом спасли прекрасную икону Иверской Божией Матери 1906 г. Афонского письма. Сейчас она у нас в храме, а была в Каменниках. Едва успели увезти в санях - и спрятали. Икона большая, такая же, как Казанская. А вот Казанскую, похоже, так из храма и не выносили. Иконы были сложены в одном приделе, а зерно хранили в другом.
«Церковь не в бревнах, а в ребрах». Необыкновенное везение, что мы успели увидеть тех самых бабушек, церковных, крестьянских, которые мало того что по семь километров шли до церкви, но никогда не приходили с пустыми руками. Хлеб, лук, свекла, капуста квашеная - все, что есть, - в храм. И сахарку с собой захватят, чтобы чай в сторожке попить, и варенья, и карамельки.
Как сейчас их всех помню, этих бабушек, «воинов», как батюшка говорит. Анна Ваганова, аккуратная, чистенькая, травы собирала, никогда на службе не сядет, да и редко кто из них садился - «солдаты». Анна Караванова, маленькая, рыженькая, улыбающаяся. Помню, как она говорила: «Умирать страшно, грехов боюсь». И еще одна - Анна Смирнова, спокойная, величавая. И незабвенная «казначея» Мария Бобкова. Муж с войны не вернулся, и стала она жить как монахиня. Это бабушки елнатские. Там тогда в храме был клуб. И в Каменниках храм был в запустении. Вот и ходили все в Жарки.

И костяевские приходили: Шура Кулакова, маленькая, худая, с черными бровями, пела басом. И могучая Валя Блинова, которая рассказала по секрету, что Троицкую березу надо ставить на чердак обязательно, пожара не будет. И Гагаева Мария, что про Мишеньку прозорливого много помнила. И Галина Маркова, которая так затейливо плела лук и всегда сажала специальную грядку лука для церкви. А из Устинихи приходила Клавдия Рыжова. Нет, о них надо отдельно рассказывать. А еще и наши жарковские: Александра Муравьева, Наумова бабушка Катя, тетя Павла, Лизавета Ворошина, Клавдия Голубева, Красновы. И тетя Лена Бисерова - «родное сердце».
Сейчас приходские храмы остаются без своих деревень, которые исчезают неотвратимо. Таких, какими мы их еще помним, больше не будет. Пустые зарастающие деревьями поля, не мелькают «белые платочки», не торопятся в храм эти труженицы и молитвенницы, не подают записочки за своих усопших воинов - мужей, да сыновей, да братьев дорогих. Сколько их видел жарковский храм, сколько слез их видела Казанская, сколько просьб слышали эти удивительные, сострадающие людям лики.
Еще надо и про батюшек сказать. Отец Леонид (Зверев) старенький уже был, один жил в сторожке, в дальней комнате, книги нам давал, заболел, и его сестра увезла в Юрьевец. Тетя Аня Муравьева вспоминала, что в Жарки попала по распределению ветеринаром в 1949 г. Тогда уже отец Леонид служил. Анна приходила иной раз прибираться к батюшке. Приберется, а он ее маленько кагорчиком угостит - для утешения.

С 1953 г. был отец Павел. Про него много рассказывали и вспоминали его с любовью. Был простой, людей привечал, на рыбалку ходил. А народу было тогда немало. Девять колхозов вокруг. В Гари - колхоз, в Башарине, в Выползове, в Хохонине свиноферма... Все «звенело». Скот пасли даже в лесу. Давали «дачи» - участок в лесу. Света тогда еще не было, только в 1960-х гг. протянули. Отец Павел сам все делал. «Я такой же, как и все, - говорил. - Это на службе я другой». Кто-то вспоминал, как отец Павел ему по математике в школе помогал. Лазил сам по лестнице отбивать в било часы. Колокола были запрещены. Он упал с этой лестницы, повредил позвоночник и через несколько дней умер в Юрьевецкой больнице. В Юрьевце и похоронен.
Старое поколение ушло. Это были «воины», а мы «слепые, хромые и убогие с перекрестьев дорог», но «возлюбивший Господа в последние времена поднимется выше отец наших». Одинаковую награду Господь дает и тем, кто позже всех пришел на Его ниву, и тем, кто трудился от начала.
Когда мы приехали в Жарки, отец Нестор (Савчук) встретил нас у дома прямо на улице - в подряснике, молодой, со своей прекрасной белозубой улыбкой при всегда чуть грустных глазах. И тут же нам объявил: «Я молился, чтобы Господь людей послал. Вот и услышал Он мою молитву». Нас напоили чаем. В комнате были еще два священнослужителя - и все моложе нас. Потом отец Нестор сказал, что теперь Великий пост и скоро пойдем на богослужение.

На вечернем богослужении, кроме отца Нестора и послушника Миши из Орехово-Зуева, никого не было. Служба все не кончалась и не кончалась, хотя возглашали что-то похожее на конец, но она продолжалась...
Отца Нестора бабушки полюбили сразу, несмотря на юность. Батюшка
родился и вырос в Крыму в селе Александровка Красногвардейского района, в
простой семье. Как он вписался в эти северные волжские просторы, и как
он, 1960 г. рождения, стал батюшкой, необъяснимо для неверующего. Отец
Нестор никогда не снимал подрясник - «это моя воинская одежда». Волевой.
И вера его неофитская была яркая, убежденная, чистая.
Так же необъяснимо, как в 1990-х гг. чуть ли не в 20 лет стал батюшкой
отец Максим - нынешний наш благочинный. Родом из атеистической семьи
офицера...
Через некоторое время отец Нестор помог купить нам дом в Устинихе за 2
км от Жарков, а потом и отец Лаврентий тоже купил там дом. И год он там
жил. И вдруг в совершенно пустой кладовке у отца Лаврентия обнаружилась
икона Казанской Божией Матери, да какая! Старого письма и в жемчужном
окладе, размера небольшого. Все бегали смотреть, радовались и
удивлялись. Люди, продавшие дом, в нем вообще ничего не оставили, да и
вряд ли у них этот образ мог быть. Икону отец Лаврентий отвез в
монастырь, да там и остался.
Когда отца Нестора не стало, одна за одной очень быстро стали уходить
бабушки. Сначала Клавдия Голубева, потом тетя Лиза Ворошина. Словно
выстроились они за батюшкой. И елнатские примкнули, и тетя Павла наша
жарковская, и дядя Веня, и чудный Леня Бисеров, 15-й сын в семье. По
ранней осени собралась и тетя Шура, за ней бабушка Катя по пасхальной
весне. А потом ушли и хозяйственные Красновы - Александр и Антонина.
Дружно жили, дружно и ушли.

Зима стала потихоньку кончаться, и стала наступать весна. И на окнах, как утверждение жизни, зазеленела рассада. Приехали американские православные матушки - журналистки, расспрашивали об отце Несторе, стояли у креста, перед которым он был убит. Смотрели на камень, который был брошен в окно. Об осколки стекла бил и бил головой отца Нестора здоровенный верзила - убийца. Когда он увидел, что отец Нестор лежит в луже крови и не шевелится, он бросился к своему снегоходу, помчался в Елнать к «ментам» и, разгоряченный и яростный, заорал, что, кажется, убил батюшку: «А если не убил, все равно убью!»
Бабушки сказали удивительно: нельзя подпускать к себе близко нецерковных людей. Без веры и русский - зверь. Видела как-то этого верзилу с батюшкой вместе и удивилась, зачем он с ним водится, такое было у него лицо тяжелое. Нехорошее, недоброе лицо. Но все тогда были рядом, вместе, в батюшкиной чистоте, как на площадке молодняка, и все потом рядом с чистотой - проявились.
Очень красивый, стоящий в глухом месте храм, грабили трижды - в нем сохранились древние иконы XVI и XVII веков. Трагедия же криминального наступления на храмы и иконы в 1990-х нами еще не осознана.
Идешь иногда в Жарки, на пригорке храм и домишки - сердце радуется.
Встретила как-то в Елнати двух старушек. «Мы, - говорят, - на лодочке за
хлебцем ездим». «А в храм?» - спрашиваю. - «Дак ведь не справляемся,
далеконько нам. А батюшку увидим, за него подержимся - и нам на всю
неделю хватает». Воистину - по вере вашей да будет вам.
В этом году 25 лет со дня перехода отца Нестора в Царствие Небесное. Отец Нестор, моли Бога о нас!
Монахиня Анна (Бухарова)
Священномученик Петр родился 4 июня 1863-го года в селе Станки Вязниковского Уезда Владимирской губернии в семье местного священника. После обучения в Шуйском Духовном училище Петр Скипетров поступает во Владимирскую Духовную семинарию, которую оканчивает в 1884-м году по первому разряду. Последний год семинарской учебы ознаменовался для Петра важным событием: 8 февраля 1884-го года он вступает в брак с дочерью иподиакона Исаакиевского кафедрального собора Заозерской Антониной Николаевной. Вероятнее всего, этот брак был устроен его братом, Михаилом Ивановичем Скипетровым, проживающим в то время в Петербурге и занимавшим одну из высоких должностей в департаменте военной и морской отчетности. Впоследствии Михаил Иванович, дослужившись до звания тайного советника, стал управляющим этого департамента, а также членом Совета Государственного Контроля. Хорошо знакомый с чиновничьим, придворным и церковным миром Петербурга, Михаил Иванович для устройства судьбы своего брата познакомил его с семьей Заозерских, глава которой состоял членом клира крупнейшего собора столицы. Это знакомство и предрешило дальнейший путь Петра: с этого момента его жизнь стала тесно связана с церковной жизнью столицы Российской Империи. Через десять дней после совершения таинства браковенчания, 18 февраля, Петр Скипетров был рукоположен в сан диакона и определен на должность своего тестя - на иподиаконскую вакансию в Исаакиевский собор. Таким образом, воспитанник последнего класса Владимирской семинарии за несколько месяцев до выпуска стал клириком Петербургской епархии.
Окончив семинарию, диакон Петр перебирается на постоянное жительство в Петербург. С продолжением учебы он решил не торопиться. Необходимо было освоиться со своими новыми обязанностями священнослужителя главного храма столицы, с обязанностями супруга, наконец, свыкнуться с необычным для провинциального юноши укладом жизни столичного города. Только через два года по окончании семинарии, в 1886-м году, отец Петр поступает в Духовную Академию. Нелегко было учиться диакону кафедрального собора. В том же 1886-м году, одновременно с началом учебного года в Академии, началась для отца Петра и педагогическая деятельность. Епархиальной властью он был определен на должность законоучителя начальных городских училищ. Снисхождения никакого не оказывалось. Учебных заведений было много, а учительских кадров не хватало, поэтому клирик столицы, студент он или нет, обязан был трудиться на преподавательском поприще. Таков был негласный закон Петербургской церковной жизни. Год поступления в Академию памятен был отцу Петру и другим событием — рождением 6 сентября первого сына, названного Иоанном в честь Крестителя Господня Иоанна. (Всего в семействе Скипетровых было 13 детей.) Понятно, что при таких обстоятельствах о полноценной, спокойной и размеренной учебе в Академии не могло быть и речи. Служение в соборе, законоучительство, бесконечные семейные хлопоты и заботы, связанные с рождением в 1888-м году второго сына, вынуждали учиться урывками. Но отец Петр с достоинством справился с этой трудной полосой в своей жизни, впервые, может быть, проявив свойственную ему выдержку, настойчивость и твердость характера. В 1890-м году, на 4-м курсе, он пишет сочинение на тему «Нравственное мировоззрение Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического» и успешно оканчивает Академию. В журнале заседаний Совета Академии имеется лестный отзыв о проделанной им работе. «То, что сделано о. диаконом, — отмечает рецензент, — в силу совершенной самостоятельности работы и литературной новизны ея, потребовало от него большого труда и достаточно свидетельствует о его правоспособности к получению степени кандидата богословия».(1)
Ко времени окончания отцом Петром Духовной Академии в Петербурге существовала целая сеть благотворительных обществ и заведений. Жизнь в них протекала под покровительством Императорского Дома. Члены Императорской Фамилии являлись жертвователями, попечителями и наблюдателями многих домов призрения, богаделен, приютов и т. п. Государыня Императрица Мария Федоровна, супруга Императора Павла I, основала Особое Ведомство благотворительных учреждений, сделав в это Ведомство огромное капиталовложение. Не только в столице, но и во всех крупных городах России имелись благотворительные учреждения Ведомства Императрицы Марии Федоровны. Другой устроитель благотворительных столичных заведений, принц Петр Ольденбургский, воспитывавшийся в детстве супругой Павла I и привлеченный на русскую службу Николаем I, с 1860-го года заведовал всеми учреждениями Ведомства Императрицы Марии Федоровны. Его труды были по достоинству оценены современниками. После его смерти, в 1885-м году, в Петербурге вышел в свет двухтомник А. Панова «Жизнь и труды принца П. Г. Ольденбургского», в котором автор подробно освящал деятельность принца на благо нашего Отечества. Петр Григорьевич и явился основателем того учреждения, куда Промыслом Божиим привлечен был на служение диакон Исаакиевского собора Петр Скипетров. В 1846-м году принц приобрел за 60 000 рублей два каменных дома в долг с рассрочкой на 37 лет на углу Глухого и Прачечного переулков, разместив в них приютский дом для призрения и воспитания незаконнорожденных детей. А в 1892-м году епархиальное начальство определяет диакона Петра на вакансию настоятеля домового храма этого приюта с одновременным исполнением обязанностей приютского законоучителя. 14 сентября 1892-го года, в праздник Воздвижения Креста Господня, спустя два года по окончании Академии, диакон Петр Скипетров был посвящен во иерея для прохождения своего дальнейшего служения при церкви детского приюта принца Ольденбургского. На протяжении шести лет, с 1892-го по 1898-й год, трудился отец Петр в приюте принца Ольденбургского. С этого назначения деятельность отца Петра теснейшим образом была связана с детскими приютами. К каким бы дальнейшим послушаниям ни привлекла отца Петра церковная власть, он сочетал их с неизменным преподаванием Закона Божия в детских приютах - вплоть до самой революции 1917-го года. С 1894-го по 1900-й год он учил детей Закону Господню в приюте Великой Княгини Александры Николаевны, а с 1900-го по 1917-й — в Громовском детском приюте. Вероятно, отец Петр обладал редкой способностью любить детей, а его преподавание основ православной веры и непосредственное общение с детьми на уроках и в храме Божием находили в детских душах живой и глубокий отклик. Да и сама исключительная многочисленность его семьи говорит о даре любви к детям, которым обладал этот требовательный к себе, твердый по характеру, чуждый слащавого сентиментализма и излишней чувствительности, пастырь. В этом сочетании твердости натуры и особой любви к детям сказывались корни отца Петра — выходца из среды простого народа центральной России с ее патриархальным трудовым укладом и глубокой, подлинной религиозностью.
Еще во время учебы отца Петра в Академии в Петербургской епархии произошло значительное событие, весть о котором всколыхнула не только всю Россию, но и вызвало живой религиозный отклик за рубежом. 23 июля 1888-го года была явлена в городе на Неве чудотворная икона «Всех скорбящих Радосте» с грошиками. В этот день в главку часовни, располагавшейся на территории селения бывшего Стеклянного завода, ударила молния и вызвала внутри ее пожар. Когда огонь утих, сбежавшиеся сельчане обнаружили, что одна из икон, помещенных в часовне, а именно икона «Всех скорбящих Радосте», не только уцелела, но и дивно обновилась. Образ сиял красками, как будто только что был написан. Кроме того, непонятным образом к поверхности иконы оказались прикрепленными мелкие монетки из кружки, висевшей на стене и в результате пожара оказавшейся на полу в раскрытом виде. Одиннадцать монеток образовали собой овал, обрамлявший фигуру Девы Марии. Весть о чуде быстро облетела весь город. В часовню потянулись толпы богомольцев. Необычайные исцеления, совершающиеся перед иконой, привлекли к ней внимание всей России. Вскоре со всех сторон последовали просьбы о молитве перед новоявленным образом, в том числе и от инославных. Вслед за этим стали поступать многочисленные пожертвования. В 1893-м году святыню почтил своим вниманием и посетил Государь Император Александр III, пожертвовав местному приходу часть земли, прилегавшей к часовне. Все эти события, послужившие толчком к постройке отдельного храма на месте явления чудотворного образа и вызвавшие религиозный подъем в столице и всей Империи, отразились и в судьбе отца Петра Скипетрова. В 1898-м году завершилось строительство Скорбященской церкви, возведенной на месте явления чудотворной иконы. Этот храм, построенный в стиле храмов Московии ХVI-ХVII веков, большей частью, на народные пожертвования, «по наружному виду, по внутреннему благолепию и обилию света по справедливости принадлежит к лучшим храмам г. Петрограда.(2) В этом же году, 30 июля, отец Петр был «согласно прошению перемещен на священническую вакансию к Скорбященской церкви».(3) Благодаря этому назначению во вновь образованный приход, получивший всероссийскую известность по причине явления чудотворной иконы, богослужебная деятельность отца Петра приобрела совершенно новое содержание. Во-первых, совершать богослужения здесь надо было гораздо чаще. Молебны в часовне совершались непрерывно с восьми часов утра и до шести часов вечера, причем, первый молебен служился непременно с водосвятием, а в два часа дня — с акафистом. Храм даже в будние дни, не говоря о днях воскресных и праздничных, был переполнен молящимися. Десятки и сотни богомольцев каждый день причащались здесь Святых Христовых Таин. Штат же прихода был невелик: всего четыре священника и один диакон. Во-вторых, служение в таком приходе ставило перед отцом Петром задачу пастырского окормления многочисленных богомольцев, стекавшихся в Скорбященскую церковь со всех концов России. Из тихой приютской жизни он был перемещен в самое средоточие народной жизни, людского горя и страданий и поставлен перед необходимостью удовлетворять просьбы и утешать страждущих и несчастных, толпами приходящих к Царице Небесной со своими нуждами. Нет никаких сомнений в том, что для несения столь нелегкого послушания Сама Владычица выбирала Себе пастырей, способных достойно, с должной внимательностью, благоговением, страхом Божиим и трудолюбием исполнять служение в месте необычайного явления милости Господней. Святость места требовала соответствующих служителей Престола Божия, способных в чистоте, непорочности и терпении соблюсти таинство веры. Здесь и служил отец Петр: сначала штатным священником, а потом настоятелем - вплоть до своей мученической кончины.
Когда обращаешься к жизни духовенства ХIХ столетия, невольно удивляешься одной ее характерной черте — необыкновенной работоспособности столичных пастырей. Отец Петр, например, помимо нелегкого служения в Скобященской церкви и часовне при ней, преподавания Закона Божия в ряде заведений столицы, принимал участие в работе многочисленных епархиальных комиссий. В клировой ведомости Скорбящей церкви имеется длинный перечень его должностных обязанностей. Там сказано, что он «…состоял: членом попечительства церкви св. мц. царицы Александры, что при детском приюте вел. Кн. Александры Николаевны (с 25 января 1895 по 1 августа 1897 гг.); членом комиссии для точного определения границ существующих приходов в Петербурге; членом комиссии для подготовки плана и сметы 2-го Духовного училища епархии; членом комиссии для проверки, пополнения и составления общей ведомости о штатных и нештатных членах причтов епархии; членом ревизионной комиссии епархиального миссионерского комитета; следователем столичного благочинного округа; делопроизводителем комиссии по постройке причтого дома при Скорбященской церкви и каменной часовни при ней; следователем по поводу неправильных метрических записей отдельных приходов епархии».(4) В 1912 году этот перечень пополнился еще одной немаловажной записью: по распоряжению епархиальной власти он был утвержден в должности настоятеля Скорбященской церкви.
Вот это может показаться скучным, неинтересным, несущественным. Но ведь для того, чтобы трудиться с подобным самоотречением, необходима любовь, некая постоянная воодушевленность глубоким чувством, без которых человек не может понести длительного напряжения своих душевных и физических сил. Мы перечисли заслуги отца Петра не только потому, что они являются фактами его биографии. Они важны, прежде всего, потому, что в них заключено свидетельство его особой религиозности, той высшей вдохновенности, которая побуждает человека изо дня в день, на протяжении всей жизни, кропотливо и без устали прилагать труды к трудам во имя служения Христу и человеку. При чтении этого послужного списка возникает вопрос: Была ли у отца Петра своя личная жизнь, жил ли он хоть сколько-нибудь для самого себя? Ответ напрашивается сам собой: жертвенное и непрестанное служение Церкви Божией - таков был смысл и содержание земного пути настоятеля Скорбященского храма нашего города.
Самым веским аргументом, говорящим в пользу его самоотверженного служения Церкви Божией, стала, конечно, его мученическая кончина. Для многих и по сегодняшний день остается непонятным его поступок, повлекший за собой его гибель. В самом деле, зачем в тот тревожный день понадобилось ему идти в Лавру, вопреки предупреждениям и настойчивой просьбе сына Николая не следовать далее монастырских ворот? В Лавру, где в тот момент наводили «порядки» вооруженные красноармейцы, где слышна была стрельба и где смерть поджидала за каждым углом? Что могло изменить его присутствие в Лавре, захваченной большевиками? Что могло изменить его пастырское увещевание в той обстановке, где сам сатана торжествовал свою победу и где темным силам была дана почти полная свобода действий? Так естественно и по-человечески понятно было бы остановиться перед входом в Лавру и, заслышав оружейную пальбу, встретив родного сына с горячей просьбой не идти далее, подумать обо всем этом, о своей семье, детях, которых он любил и которых подвергал риску остаться сиротами в стране, где власть перешла в руки насильников. Но ни чувство привязанности к детям, любви к супруге, ни доводы ума не остановили его в ту минуту. Он был, прежде всего, человеком долга и руководился в тех обстоятельствах его велением. В назначенный митрополитом час он должен был быть в архиерейских покоях, у дверей его приемной. Значит, надо было идти, отстранив страх и прочие соображения. Во-вторых… Но обратимся к летописи событий тех дней.
19 января 1918-го года, после обнародования декрета об отделении Церкви от государства, большевики предприняли попытку захвата Александро-Невской Лавры. В этот день, в час дня, в Лавру прибыл отряд матросов и красногвардейцев во главе с комиссаром Иловайским, который тотчас же последовал в покои митрополита с требованием их освободить. «Затем комиссар, в сопровождении красногвардейцев, направился в собрание духовного собора Лавры, где в то время находился наместник преосвященный Прокопий, и потребовал сдать все лаврское имущество».(5) После отказа подчиниться распоряжениям новой власти епископ был тут же арестован и заключен под стражу в собственной келлии. Той же участи подвергли и членов духовного собора. Однако народ, оказавшийся в Лавре, движимый чувством негодования, без долгих колебаний и сторонних призывов, решительно поднялся на защиту своих святынь. «В это время с лаврской колокольни раздался набат. Оказалось, что находившиеся в лаврском дворе богомольцы, узнав о появлении и здесь красногвардейцев, по собственной инициативе бросились на колокольню и забили тревогу. К Лавре стали быстро стекаться толпы народа; особенно много было женщин. Слышались крики: «Православные, спасайте церкви!» <…> Затем толпа обезоружила матросов, а комиссара сбила с ног, отобрав у него предварительно револьвер. <…> Красногвардейцы побросали оружие и разбежались».(5) Все это только разъярило власти. Через некоторое время к Лавре подъехал грузовик с новым вооруженным отрядом и двумя пулеметами, которые тотчас же были поставлены на лаврском дворе. Начался новый приступ. «По звонарям дали несколько залпов. Однако набат продолжался. Один из красногвардейцев вошел в церковь, наполненную богомольцами, и потребовал, чтобы ему указали вход на колокольню. Взобравшись наверх, он с револьвером в руке согнал оттуда звонарей. Внизу красногвардейцы и солдаты энергично изгоняли богомольцев из лаврского двора. Было произведено несколько выстрелов».(6)
В этот самый момент и появился у ворот Лавры протоиерей Петр Скипетров со своим сослуживцем, отцом В. Покровским. (За день до захвата Лавры, 18 января, они были вызваны к трем часам дня на прием к митрополиту Вениамину.) Здесь-то и встретил отца Петра его сын, семинарист Николай, с настойчивой просьбой не идти далее. То, что произошло после этого, отражено в подробном отчете Особой комиссии под руководством прот. А. Кононова, производившей расследование обстоятельств гибели отца Петра Скипетрова. Этот отчет был полностью опубликован в газете «Петроградский церковно-епархиальный вестник»(7) для того, чтобы развеять нелепые слухи народной молвы вокруг смерти настоятеля Скорбященской церкви. Вот что там, в частности, сообщалось:
«В разных местах Лавры наблюдался народ в тревожном настроении по причине появления в Лавре красногвардейцев. Войдя в коридор главного подъезда, протоиереи увидели нескольких гвардейцев, которые пререкались с женщинами и угрожали им винтовками и револьверами. Протоиерей Скипетров обратился с горячим пастырским увещанием к вооруженным людям не производить насилия над верующими, и не издеваться над народными святынями. Не прошло и нескольких секунд, как последовал выстрел из револьвера со стороны одного из красногвардейцев, и о. Скипетров, как подкошенный, безмолвно опустился на пол коридора. Лицо его имело совершенно спокойное выражение, но показавшаяся мгновенно изо рта кровь свидетельствовала, что он ранен. <…> После ранения прот. Скипетрова вооруженные люди разбежались, скрывшись от возбужденной толпы. Потерявшего сознание прот. Скипетрова бережно перенесли в лаврскую братскую больницу. Сюда был вызван по телефону сын о. Петра врач П. П. Скипетров, который нашел отца в крайне тяжелом состоянии. Револьверная пуля прошла через нижнюю челюсть и засела в шее. Экстренная медицинская помощь привела раненого на краткий момент в сознание, он попросил воды, а затем отрывисто сказал: «Маму… детей… благословить… умираю… владыку митрополита…» Пытался благословить подошедших детей, но это ему не удалось, так как он не мог поднять руки. Ввиду необходимости немедленной помощи он был перенесен в ближайший лазарет, располагавшийся по Невскому пр., 135. Дежурный врач этого лазарета д-р Любовский внимательно осмотрел рану, констатировал перелом нижней челюсти, наложил повязку и шину, затем больного перенесли в отдельную палату. Здесь к больному была допущена его жена, которую он узнал, пытался ей что-то сказать, но не мог, так как разговаривать было запрещено. Вскоре прибыл владыка Вениамин и благословил о. Петра, тот открыл глаза, но не произнес ни одного слова. Кроме доктора Любовского, деятельное участие в уходе за больным принимали старший врач проф. Звержховский и сестры лазарета. Были употреблены все средства, но, несмотря на это, около 10 часов вечера состояние больного внезапно и резко ухудшилось, и в 10 часов 45 минут вечера о. Петр отошел в лучший мир».
Ревностью древнего пророка была названа та порывистость и безбоязненность отца Петра, с которой он вступился за женщин, притесняемых вооруженными солдатами. «Менее чуткий, более теплохладный человек мог бы промолчать и тем самым сохранить свою жизнь, но не таков был о. Петр — энергичный пастырь с его смелою христианскою душей, с его «Илииною» ревностию», — писал в статье об убиенном настоятеле проф. А. Бронзов. Да, все именно так, как писал профессор. Он ничего не преувеличил. Входя в Лавру, отец Петр не мог не заметить грузовика с вооруженным отрядом, пулеметов, установленных на площади, не мог не слышать колокольного набата, ружейных выстрелов и выгоняемых из собора богомольцев, не мог не замечать совершаемого произвола. Инстинкт самосохранения, присущий каждому человеку, утробный страх смерти, бессознательно возникающий в человеке при столкновении с любой жестокостью и кровавым насилием не остановили его. Бесстрашно отправился он в покои митрополита. Столь же бесстрашно пытался остановить он неуправляемую и одержимую жаждой сатанинского разрушения группу солдат, злобно угрожавших оружием беззащитным женщинам. Будучи настоятелем Скорбященской церкви, он хорошо знал религиозные чувства народа, его любовь к храму, святыням Православной веры. На протяжении долгих лет он был свидетелем того, как православный люд Руси многочисленными толпами стекался к чудотворной иконе Богоматери, видел, как приносил он сюда свои скорби и как, после истовой молитвы, уходил отсюда утешенным, ободренным и обновленным. Эти картины религиозности русского народа глубоко запечатлелись в его сердце. Могли он сейчас оставаться безучастным, видя большевистские глумления над верой, той верой, которая ему была дороже самой жизни? Мог ли малодушно укрыться в безопасном месте в тот самый момент, когда народ устремился на защиту своих святынь? Пожалуй, в собственных глазах он оказался бы тогда молчаливым предателем того высшего начала человеческого бытия, которому служил всю жизнь. Любовь, одна любовь и пророческое ревнование о Боге Живом руководили им в тот момент, когда он отстранил своего сына, умолявшего не ходить в Лавру.
Отпевание почившего пастыря состоялось 22 января 1918-го года. Заупокойная литургия, возглавлявшаяся сщмч. Вениамином, была совершена им в сослужении его викариев, преосвященных Прокопия и Артемия, а также 25 священников Петрограда. Похоронили отца Петра на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. Спустя два месяца, 31 марта, Святейший Патриарх Тихон совершил «…в храме Московской Духовной семинарии заупокойную литургию по новым священномученикам и мученикам», в числе которых значилось имя протоиерея Петра Скипетрова. «Молитвенные возношения на заупокойной литургии и панихиде произносились в такой форме: «О упокоении рабов Божиих, за веру и Церковь Православную убиенных».(8)
В 1934-м году, когда закрывали Лавру, власти решили ликвидировать и Тихвинское кладбище. Могила отца Петра, наряду с прочими, подлежала уничтожению. Антонине Николаевне, супруге почившего пастыря, было предложено перенести прах мужа на другое кладбище. Печальная задумчивость овладела ею после этого предложения. Переносить прах в другое место не хотелось: Лавра была местом пролития мученической крови отца Петра. К тому же, на Тихвинском кладбище рядом с могилой отца Петра были похоронены и пятеро его детей. Но и оставлять останки мученика нельзя было. Необходимо было обезопасить их от возможного поругания. «Матушка, ты не беспокойся, мы (т. е. почивший и дети - прим. авт.) никуда не поедем, а останемся на старом месте», - разрешил смущения своей супруги отец Петр, явившись ей во сне в ночь после полученного ею известия. Явление покойного мужа и его повеление настолько поразило вдову, что она решила не трогать прах почившего супруга-мученика. Это небесное посещение было действием Промысла Божия. Сегодня на могиле отца Петра вновь установлен крест с неугасимой лампадой, и ее тихий свет является символом той превозмогающей страх любви, силою которой род человеческий удерживается от окончательного нравственного разложения.
«Журналы Совета СПб Духовной Академии за 1889/1890 уч. г.». СПб., 1894, с. 255. «Чудотворная икона Пресвятыя Богородицы «Всех скорбящих Радосте» (с монетами) и описание чудес от нея». Пг., 1916, с. 52. ЦГИА СПб. Ф. 277, оп 1, д. 3667, л. 5. ЦГИА СПб. Ф. 277, оп 1, д. 3667, л. 5. «Прибавление к Церковным ведомостям» Пг., 1918, № 2, с. 82. «Прибавление…». Пг., 1918, № 2, С. 82, 83. «Там же, с. 83, 84. «Петроградский церковно-епархиальный вестник». 1918, № 1, с. 4-5. «Прибавление…». Пг., 1918, № 15-16, с. 519.
Иеромонах Нестор (Кумыш). Новомученики Санкт-Петербургской епархии
СТАТИСЪ ДЕРЖАВА Санкт-Петербург 2003.